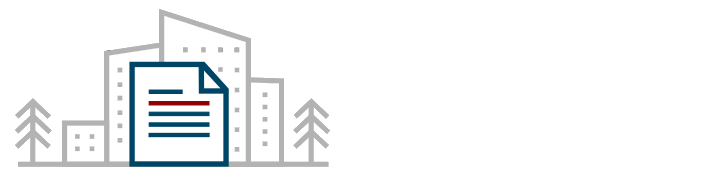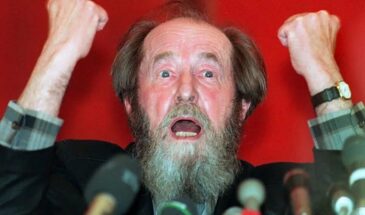Михаил Хазин о «Хрониках русской революции», трех кризисах России и только об одном шансе выжить без войны

Известный экономист Михаил Хазин считает, что сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» дал повод поговорить о том, что происходило в те годы в с точки зрения экономики. Был ли кризис начала XX века неизбежен? Был ли неизбежен кризис 1980-х в СССР? И, главное: неизбежен ли экономический кризис в России сегодня?
Кризис Российской империи: не фатальный, но упущенный
Начнём с начала XX века. Что происходило в Российской империи с экономикой? Первое — не было внутреннего капитала. В православной стране с банками были проблемы: капитал накапливали почти только старообрядцы — солидарно, методично, успешно. А банковского капитала в нужных масштабах не существовало.
Вот и получалось: технологии были — Попов изобрёл радио раньше Маркони, но у Маркони нашлись деньги, а у Попова — нет. И бизнес пошёл не у нас, а у них.
И тут возникает вопрос: а ведь понимали же тогда, что происходит? Сегодня мы это более-менее осознаём. Современная теория экономического кризиса в капиталистическом обществе берёт начало ещё у Адама Смита: если растёт технологическое развитие и углубляется разделение труда, нужно расширение рынков.
Эту мысль развивала Роза Люксембург — Марксу она не понравилась, Ленин с Люксембург разругался, а в СССР её идеи объявили еретическими. Лишь в 1990-е годы эту тему возобновили российские экономисты, в первую очередь Олег Вадимович Григорьев.
Суть проста: если расширять рынки некуда — кризис неизбежен. Причём не обязательно из-за объективных причин. Иногда — из-за глупости, застоя, сословных предрассудков.
А в Российской империи на рубеже веков висело два Дамокловых меча.
Первый — отсутствие капитала, о чём уже сказано.
Второй — сословное общество. Сама идея, что князь или граф априори лучше крестьянина, тормозила всё: образование, социальную мобильность, экономику. Именно поэтому в конце XIX века образованная часть общества поддерживала терроризм — искренне верила: без насилия разрушить сословную систему невозможно.
Но главная экономическая проблема — всегда рынки сбыта. Никакие инвестиции не пойдут туда, где некому продавать продукцию. А в начале XX века рынки делили между собой Британия, Франция, Германия, США. Россия была глубоко в хвосте — хоть и находилась в германской технологической зоне, хоть и привлекала британский капитал (через Францию).
Когда у власти оказался Столыпин, он это понял. Возможно, он не формулировал свою программу публично, но её экономический смысл был ясен:
Ключ — в тяжёлой промышленности. А чтобы она росла, нужен внутренний рынок. А рынок — это фермеры, которые покупают трактора.
Столыпин решил сделать из России страну массового фермерского хозяйства — как США. Дать крестьянину землю, пусть продаёт зерно и покупает технику. Это была гениальная по своей простоте экономическая программа.
Но провал последовал мгновенно. Почему? Потому что в условиях российской деревни сельские ростовщики — «мироеды» — предпочли сверхэксплуатировать соседей, а не создавать крупное хозяйство. Община оказалась не базой для прогресса, а питательной средой для паразитов.
И всё же — кризис начала XX века не был фатальным. Уйти от него можно было. Для этого требовалось всего два условия: ликвидировать сословность и создать внутренний рынок. Второе — как мы увидим — позже удалось Сталину.
Октябрь 1917-го: не революция, а чудо с военным участием
Когда в феврале 1917 года рухнула сословная система, начался всплеск энергии. Но вместо того, чтобы строить страну, русские либералы решили… продать Россию по дешёвке и уехать на Запад жить красиво.
Именно поэтому вся интервенция в Гражданскую войну шла строго по тем регионам, которые Временное правительство уже успело «раздать»: Одесса — Франции, Архангельск и Баку — Англии, Дальний Восток — Японии и США, Средняя Азия — опять англичанам.
Вот почему 7 ноября 1917 года — это чудо. Не революция в чистом виде, а почти военный переворот, устроенный группой генералов Генштаба (Потапов, Бунч-Бруевич, Маниковский, Верховский), которые договорились с большевиками — и сохранили страну от расчленения.
Сталин и ответ на вопрос Столыпина
В 1920-е годы в СССР стоял вопрос: как выжить? После Гражданской войны стало ясно — с Западом соревноваться невозможно. Тем более, что у него уже существовала давняя мечта: распилить Россию.
В конце 1920-х началась острая дискуссия. Политики, как всегда, «скрывали мысли», но суть была в экономике. Группа Сталина выиграла — и решила повторить программу Столыпина, но наоборот.
Если Столыпин хотел уничтожить общину и сделать фермеров — Сталин усилил общину, создав колхозы. А чтобы колхозы покупали трактора, придумали МТС — машино-тракторные станции, которые сами закупали технику и сдавали её в аренду.
Это сработало. Сверхпроизводительность труда на селе высвободила миллионы рабочих рук для заводов. Трактор оказался не просто машиной, а концом гигантской технологической цепочки — от металлургии до энергетики. Это и была индустриализация.
Так что да — кризис начала XX века был преодолим. Он стал трагедией только из-за двух тормозов: православной неприязни к капиталу и сословного мышления.
Кризис СССР: фатальный, но понятный
Теперь — 1980-е. СССР рос невероятно быстро: 12–15% в год — как Китай в 2000-е. Но уже с 1961 года темпы начали падать. Почему? Рынки были исчерпаны. Это был тот же кризис, что в 1930-е в США и Европе — только у них он уже прошёл, а у нас только начинался.
Попытки реформ? Были. Хрущёв — провал из-за плохого управления. Косыгин — провал из-за конфликта с «обкомовцами». Брежнев, ревнуя Косыгина (а тот, по слухам, должен был стать преемником Сталина в 1953 году), не дал ему реализовать программу.
Но главная проблема была глубже. В СССР действовал принцип: «кто не работает, тот не ест». Чтобы никто не остался без хлеба, на предприятиях держали в два-три раза больше людей, чем нужно. Это была политика полной занятости, но за счёт низкой производительности.
Когда в 1960–70-е попытались ввести сдельную оплату, началась драма:
— «Почему у рабочих зарплата в три раза больше, чем у меня, первого секретаря райкома?»
— «Потому что они работают.»
— «Такого быть не может.»
И реформы сворачивали.
В начале 1980-х в ЦСУ (тогдашнем статистическом ведомстве) старики-экономисты, включая моего учителя Эмиля Борисовича Ершова, пересчитали реальные темпы роста — и выяснили: фактически, они упали до нуля уже к 1982–1983 годам.
Андропов и Черненко, даже если бы и захотели, уже не успевали. И да — я не верю в конспирологию: если бы Андропову было 50 лет и экономика росла, он бы не стал «сдавать» страну. Он стал царём. Зачем рушить своё?
Так вот: кризис 1980-х был фатален. Как кризис 1930-х на Западе. Из него нельзя было выйти без внешнего шока — без передела мира. Запад выбрался через войну. СССР — сдался.
И Запад получил то, что держал СССР: 30% мирового авиационного рынка, технологии, ресурсы. Это дало ему ещё 30 лет жизни.
Нынешний кризис: шанс есть
А сегодня? Сегодня — мы в другой ситуации. Нынешний кризис в России — не фатален. Как и в начале XX века, у нас есть внутренние ресурсы для роста.
Что нужно?
— Сделать настоящее импортозамещение. Сейчас 60% потребительского и 40% промышленного спроса — импорт. Заместим — и получим внутренний рынок, как в 1930-е.
— Повысить производительность труда, избавившись от советской персонализированной занятости.
Результат? Те же 12–15% роста в год — на 15–20 лет.
Но именно поэтому Запад делает всё, чтобы этого не допустить.
— Забирает наших талантливых детей — «утечка мозгов».
— Разрушает систему образования, чтобы новые кадры не появились.
— Блокирует доступ к инвестициям и технологиям.
А внутри — другая беда. Часть российской элиты, особенно в денежно-финансовом блоке, сознательно тормозит развитие, чтобы сохранить Россию в долларовой системе. Повышение ставок, налогов, ужесточение регулирования — всё это не экономика, а политический выбор.
Они говорят: «Эта экономика не встраивается в мировую систему — значит, её надо сломать».
Но эта система уже рушится. И когда она рухнет, таких людей вполне могут признать не просто вредителями, а изменниками Родины. Но для этого, конечно, должна измениться политическая модель. Об этом — отдельно.
Запад в тупике: деньги не работают — остаётся ядерное оружие
На Западе сегодня трагедия другого рода: они не понимают, что происходит. Их экономическая наука замерла в 1970-х. Люди, которые всю жизнь учили и учились либеральной мейнстрим-теории, не могут признать, что она мертва. Признать — значит сказать: «Моя жизнь — чушь».
Поэтому они продолжают верить в пузыри. Например — в NVIDIA, чипы которой лежат в основе всего ИИ. Через две недели, 19 ноября, компания отчитается. Если плохо — возможен обвал. Если хорошо — пузырь протянет ещё немного.
Но это не выход. Финансовые рынки исчерпаны. Печатать деньги больше нельзя — сразу растёт инфляция.
И тут Запад возвращается к последнему аргументу — ядерному оружию. Особенно в США. Там уже появляются силы, которые говорят:
«Мы больше не можем управлять миром через доллар. Но мы можем управлять через страх. Не лезьте в нашу жизнь — иначе сбросим бомбу».
Для них Россия — удобный партнёр: договороспособна (с Путиным во главе), далеко, не лезет в их внутренние дела. Куба, Венесуэла — «муравьи». А вот с Европой всё сложнее.
Германия рушится. Шенген исчезнет через два года. Евросоюз распадётся на локальные зоны. Или станет фашистским — с тотальным контролем, арестами «шпионов» и бандами на улицах.
Ездить туда станет опасно — как в некоторые районы Латинской Америки: только в бронеколонне.
Будущее уже здесь
Ключевая мысль: не все кризисы одинаковы.
— Кризис 1930-х на Западе — фатальный.
— Кризис 1980-х в СССР — фатальный.
— Кризис 2020-х в США — фатальный.
Но:
— Кризис начала XX века в России — не фатальный.
— Кризис в России сегодня — не фатальный.
Именно поэтому Запад в панике. Если мы реализуем свой потенциал — они окажутся в той же ситуации, что в 1930-е: у них — кризис, у нас — рост. Тогда они устроили войну. Сегодня война маловероятна: нет крестьян, готовых воевать, только хипстеры. А ядерное оружие делает войну бессмысленной.
Значит, у нас есть окно. Не очень большое — но реальное. И если мы его используем — всё изменится.
Это и есть наше будущее. Его не надо бояться. Его надо принять.